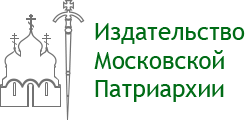
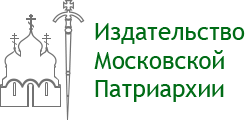

В издательстве Московской Патриархии выходит книга известного публициста и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!».
В преддверии выхода книги журнал «Фома» опубликовал развернутое интервью с Феликсом Вельевичем.
Приводим его полностью.
Уроки семнадцатого
 В Издательстве Московской Патриархии выходит книга известного публициста и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Сам автор характеризует эту книгу, приуроченную к столетию революции, как «попытку православного осмысления истории русской катастрофы».
В Издательстве Московской Патриархии выходит книга известного публициста и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Сам автор характеризует эту книгу, приуроченную к столетию революции, как «попытку православного осмысления истории русской катастрофы».
Мы беседуем с Феликсом Вельевичем и о самой книге, и о том, что вызвало ее появление.
Надо отвечать
— В Вашей книге высказана ясная и четкая позиция по отношению к катаклизму 1917 года — Вы определяете его как «голгофу русского народа». Такая позиция у Вас появилась в процессе работы над книгой, или раньше?
— Позиция, конечно, появилась намного раньше. Я ведь уже более двадцати лет веду на телевидении, на канале «Культура», историческую программу «Кто мы?». Это программа о русской цивилизации, Русском мире и русской судьбе. Естественно, что сама тематика программы предопределила особое внимание к событиям 17-го года. Тема государства, тема национальной элиты, судьба русского крестьянства, интеллигенции, и так далее, и тому подобное — всё «упирается» в катастрофу начала ХХ века. Каждая тема высвечивала новую грань в истории 17-го года. И одновременно увеличивала объем информации. Причем, она, эта информация, во многом противоречила той исторической картине, которая была создана советскими идеологами и которая с небольшими поправками благополучно дожила до наших дней. История русской цивилизации потребовала «другой мысли и другой формулы». Катастрофу в христианской стране невозможно описать понятиями исторического материализма. Отсюда «голгофа»…
— А какова была Ваша авторская мотивация?
— Весной прошлого года мне пришла в голову мысль, что наша Православная Церковь, наше православное сообщество должны иметь по поводу 1917 года внятную историческую концепцию. А на её основе — аргументированную позицию. Ведь есть позиция коммунистов, есть позиция российских либералов. Кстати, эти позиции довольно схожи, прежде всего, приматом политических и экономических сторон общественной жизни. Для православного сознания это неприемлемо. Стало быть, этому нужно что-то противопоставить. Тем более приближалось 100-летие «русской революции», важный рубеж, время общественных обсуждений, дискуссий. Однако внятного, цельного и, что немаловажно в наши дни, компактного изложения событий в православном ключе мне не попадалось. Собственно, это и было, наверное, моей «авторской мотивацией». Решив делать новую книгу, я отобрал три проекта, разработанные в разное время для программы «Кто мы?». Это «Преданная война» (Россия в Первой мировой войне), «Кровь на русской равнине» (история Гражданской войны) и «Русская голгофа» (история гонений на веру и Церковь Христову в ХХ веке).
— А зачем вообще Церкви нужно иметь свою позицию по вроде бы вполне посюстороннему, не духовному вопросу? Наверняка Вам такое говорили…
— Да, мне приходилось встречаться с мнением, что Церковь должна говорить только на религиозные темы, а по всем остальным вопросам никакой позиции ей иметь не следует. Но я с этим не согласен. Я убежден, что и у Церкви в целом, и у церковных людей должны быть ответы на самые важные вопросы современной русской жизни, в том числе и ответы на узловые моменты русской истории.
Почему это нужно? Да потому, что когда люди начинают размышлять о вере и обращаются к Церкви, то они обращаются к ней не только с сугубо духовными вопросами, но и с вопросами нравственными, культурными, социальными. Причем все эти вопросы либо напрямую, либо опосредованно затрагивают и духовную жизнь тоже. Но если мы, церковные люди, отказываемся отвечать на такие вопросы, если мы говорим, что никакой позиции тут не имеем, то мы неизбежно встаём на путь эскапизма, уклоняемся в самоизоляцию, в сектантство. Кстати, именно из этих соображений наша Церковь в 2000 году приняла Социальную концепцию. Тогда ведь тоже этот шаг кого-то мог смущать, но Церковь не должна ограничивать себя церковной оградой. Все, что имеет отношение к духовной жизни, может и должно быть церковным сознанием осмысленно и артикулировано.
Кроме того, не стоит забывать еще и вот о чем. В огне революции и Гражданской войны погибли почти все культурные и социальные институты русской жизни. Крестьянство, интеллигенция, русская научная школа, русское офицерство, торгово-промышленный класс… И когда к 1991 году большевистский проект истлел, оказалось, что из всего Русского мира осталась лишь Православная Церковь. И это накладывает на нас, православных русских людей, особую миссию. Мы не можем уклоняться от решения национальных проблем во всем их многообразии. В стране с исковерканным мировоззрением и разрушенными историческими традициями у нас возникает необходимость отвечать на многие вопросы, связанные с сегодняшним национальным бытием.
Личное и безличное
— Революция случилась сто лет назад — вроде бы достаточно большой срок, чтобы воспринимать ее отстраненно. Но почему-то не получается, наши современники весьма эмоционально относятся к случившемуся в 1917 году. Кто-то принимает, кто-то отвергает, кто-то за «красных», кто-то за «белых», но и те, и другие уверены, что это напрямую их затрагивает. В чем причина такого живого восприятия?
— Начну издалека. Дело в том, что на сегодняшней день никакой единой России не существует (увы!), а есть по крайней мере три разных мира внутри одной и той же страны. У этих миров настолько разное представление о самых важных вещах, что практически невозможен даже нормальный диалог.
Один мир — это тот, который попытались построить победители 1917 года, то есть большевики. В его основе лежит идея, что все прежнее, историческое, никуда не годится и его нужно разрушить — «до основания». Выбросить на свалку истории, чтобы «затем» создать новый мир — гармоничный и прекрасный. И хотя через 70 лет в этом новом мире никто не захотел жить, и де-юре большевистский проект завершился, у него по-прежнему много сторонников, причем вовсе не только среди людей старшего поколения.
Другой мир возник в 1991 году, его обычно называет либерализмом, но, по-моему, более точное название — ельцинский большевизм. Потому что большевизм — это ведь не синоним марксизма, материализма и так далее. Все это лишь внешние оболочки, а суть — в презрении к прошлому, в горделивом убеждении, что клячу истории можно поднять на дыбы… Что все решает власть, которая в отличие от темного народа знает «как надо», и потому власть имеет полное право железной рукой гнать этот темный народ в светлое будущее, не считаясь ни с какими жертвами. Вот что главное. А предлагаемое в качестве «единственно верного учения» — марксизм, национал-большевизм, либерализм и демократия — это уже детали. Мир ельцинского большевизма сейчас, после вакханалии лихих 90-х, потерял господствующие позиции, но у него тоже немало сторонников.
Миры ленинского большевизма и большевизма ельцинского друг другу враждебны, они политические конкуренты, но, тем не менее, у них немало общего.
И, наконец, есть мир исторической России — то, что мы называем «Русским миром». Я понимаю, насколько этот термин сейчас скандализирован, какие чудовищные карикатуры на него рисуют в отечественных и тем более в зарубежных СМИ, но давайте все-таки под Русским миром понимать то, о чем говорит Святейший Патриарх Кирилл — то есть те базовые ценности, которые сформировали русское самосознание. Православная вера, вытекающие из нее нравственные принципы, образцы отношений со своими и с чужими, с природой, с русской землей… Тут сразу нужно оговориться, чтобы не было кривотолков. Нельзя ставить знак равенства между Русским миром и дореволюционной Россией — ее жизнь была очень противоречивой, в ней было много несовместимого с Русским миром. И уж, конечно, Русский мир нельзя отождествлять с политической идеологией, с идеей загнать всех русских в единое государство.
Так вот, любая разновидность большевизма (будь то ленинская или ельцинская) ставила своей целью уничтожить Русский мир. Уничтожить веру, понятия, традиции, память. По части разрушения большевизм отличается редким упорством и безоглядностью. Тем не менее, разрушить Русский мир целиком и полностью не удалось, более того, это живое духовно-культурное явление имеет удивительную способность — восставать и возрождаться. После всех катаклизмов ХХ и начала ХХI века в современной России немало людей, которые чувствуют и дорожат своей связью с исторической Россией, с ее судьбой, с ее землей.
Так вот, катастрофа 1917 года — это водораздел, это точка разделения всех трех миров. А, следовательно, трёх разных мировоззрений, идеалов и целеполаганий. Каждый житель России вольно или невольно ассоциирует себя с одним из этих трех миров. Поэтому отношение к 1917 году для нас не только история, в первую очередь, это символ мировоззренческого выбора, пробный камень национальной идентичности. А значит, восприятие 1917 года у нас может быть каким угодно, но только не формальным и холодно-отстраненным.
Без середины
— Говоря о случившемся в 1917 году, часто употребляют слово «катастрофа». Но давайте уточним, в чем именно заключалась эта катастрофа. Тут ведь есть разные мнения. Одни говорят, что главная беда — это пролившиеся реки крови, это озверение народа. Другие акцентируются на разрушении культуры, на варваризации общества. Третьи считают, что корень зла — это ликвидация самого института русской православной монархии как единственно органичной для русского народа формы государственного устройства. А как думаете Вы?
— В каждой из озвученных позиций есть доля истины, но лично мне ближе вторая, то есть это была прежде всего культурная катастрофа. А ее основная причина — глубочайший духовный кризис. Остальное — суть следствия и внешние проявления. К числу внешних проявлений относится серия государственных переворотов. Это политика, она всегда отражает то, что происходит в культуре (но не наоборот).
Февраль 17 года — первый шаг к катастрофе, первый переворот. По расчётам его вдохновителей и организаторов предполагалась смена носителя верховной власти и некоторые уступки либеральным общественным деятелям. Замышлялся типичный дворцовый переворот… А вышло нечто иное. Вмешались заводчики русской Смуты, строители «царства социализма», — деятели русских революционных партий. И крестьянство вмешалось, отвернувшееся и от России и от монархии. В результате Россия в одночасье лишилась верховной власти. Впрочем, не только верховной, отменялась власть как таковая, вся система права в стране. И Россия семимильными шагами стала погружаться в хаос и Смуту. О духовной сути этого специфически русского кризиса написал поэт Максимилиан Волошин:
«…Сквозь пустоту державной воли,
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод».
В столь «благоприятной» обстановке большевики совершают очередной переворот и меняют расстановку политических сил в Петрограде. Уже в сталинские времена этот большевистский Октябрьский переворот станут называть «Великой Октябрьской социалистической революцией». Но это обычная пропагандистская ложь. Что же касается социалистической революции — то ее устроят уже потом, когда появится ЧК, когда заработает адская машина террора. Но сначала Россию перевернет и обрушит Смута или по-иному Гражданская война, на которую крепко рассчитывал товарищ Ленин. Эту цель Ленин поставил ещё в 1914 году, в самом начале Первой мировой войны. Его знаменитый лозунг «превратим войну империалистическую в войну гражданскую» — это помимо всего прочего еще и прямой призыв к национальной измене, свидетельство ленинского отщепенства. Для европейской страны подобные факты несовместимы с публичной политикой вообще, и с революционной деятельностью в частности. Но русская Смута покрывает всё, даже предательство.
Срываясь в Смуту, русский человек всё и вся расточает, от всего отрекается. Это — род национальной болезни, форма кризиса, пробуждающего и развязывающего тёмные страсти и низменные инстинкты. Большевики умело воспользовались разрушительной энергией смуты. Они подлили масла в огонь и спровоцировали грандиозную катастрофу.
В результате возникло государство «нового типа», опиравшееся на богоборческую якобы спасительную идею «революционного обновления» и систему государственного террора. И тогда (только тогда!) вскоре после Октября 17-го началась революция, которая как всегда в России осуществлялась сверху, силой государственной власти.
В ходе большевистской революции Русский мир чрезвычайно упростился. Это была сознательная и последовательная политика — «перековать» русского человека. Главный метод — насильственное упрощение. Уничтожалось всё, что относилось к «ненужной сложности». Советский человек и советская культура отличались опасной, нежизнеспособной упрощенностью. Плоды этого культурного одичания мы пожинаем до сих пор.
— А в чем, по-Вашему, неправы те, кто видит главную беду 1917 года в уничтожении православной монархии?
— Наверное, в том, что к 1917 году никакой православной монархии в России уже, по сути, не было — если под православной монархией понимать тот идеал симфонии светской и духовной властей, что был сформулирован еще в византийские времена. Не только среди политической элиты, не только среди образованного слоя, но даже и среди крестьян уже мало кто воспринимал Государя как помазанника Божия и готов был сохранять ему верность. Идеал православной монархии воспринимался как исторический пережиток, причем не только в 1917 году. Процесс начался гораздо раньше, по меньшей мере со второй половины XIX века. Либеральные, т.н. Великие реформы императора Александра II значительно ускорили распад и монархической и религиозной идеи народа. Не случайно же в феврале-марте 1917 года ни одно сословие не выступило в защиту монархии — включая и Церковь. Голоса отдельных личностей в общем восторженном хоре были не слышны.
Но это — лишь одна сторона правды. Другая же сторона — что русская монархия, русский Царь действительно были последней и единственной скрепой исторической России. Не стало Царя — и оказалось, что все дозволено. Смута вышла из берегов, и Русский мир покатился под откос.
— А что Вы думаете о том, что самодержавие — это наиболее органичный для русского народа формат государственного устройства?
— Да, в этом есть своя правда. Политический строй, основанный на концентрации верховной власти в одних руках и на доверии общества государю — это традиция, берущая начало от первого государя Всея Руси Ивана III. Для России это действительно необходимое условие существования.
— А почему?
— Объяснение этого феномена достаточно сложное. Тут надо говорить о самой основе русской цивилизации, то есть о типе русской духовности.
Если представить духовность как некое пространство, то его срединная часть, связанная с несовершенным земным существованием, не очень интересует русского человека. Нам дороже и ближе понятия абсолютные, всеобъемлющие, вершинные. Вопрос смысла бытия — зачем, как и почему — для русского человека центральный. Мы устремлены к небу или — в прямо противоположном направлении. Как говорил Николай Бердяев, «из нас, как из дерева — и дубина, и икона». Это потому, что в духовной сфере ошибки и соблазны гораздо опаснее, чем в области земных понятий и установлений. Русская религиозность может принимать самые разные, подчас крайне разрушительные формы. Большевизм, между прочим, это тоже одна из форм нашей религиозности.
Между тем вопросы устроения земного мира, сохранения культуры не то чтобы вообще выпадают из нашего поля зрения, но все-таки это вопросы второстепенные. Отсюда отношение к государственности и земной власти. Эти заботы русский человек охотно делегирует самодержцу (или авторитарному правителю), тем более осознавая его власть как санкционированную свыше.
И в этом есть как свои плюсы, так и свои минусы. Если страна переживает духовный подъём, то и вопросы насущные — политические и социальные — разрешаются мирно и благополучно. Рядом с носителем верховной власти обязательно оказываются люди особых духовных дарований, люди почитаемые народом, которые определяют то что называется «духом правления». Этого бывает достаточно, чтобы удержать власть от большинства неверные решения. Но совсем другая история начинается в пору духовного оскудения. Тут и кризис святости, и кризис всего и вся. И, как следствие, – кризис власти. Вот тогда Россию сотрясает очередная Смута — тяжелейшая эпоха лавинообразного распада и разложения. В этом, несомненно, недостаток централизованного монархического правления.
Была ли альтернатива
— История, конечно, не знает сослагательного наклонения, но все-таки можно ли было предотвратить гибель русской монархии?
— Мне представляется, что православное сознание не должно допускать фатализма в рассуждениях. Я убежден, что в любую минуту до 2 марта 1917-го года можно было опомниться, прийти в себя и изменить вектор развития. Несмотря на все копившиеся десятилетиями проблемы.
Но сразу подчеркну, что такую монархию, какой она была к 1917 году, сохранить было абсолютно невозможно. Единственное, что имело бы какой-то шанс — это военная диктатура, что-то вроде генерала Врангеля в белом Крыму и при нем дееспособное правительство из умных бюрократов и вменяемых представителей общественности. В таком варианте проявление твердой воли к сохранению централизованной власти гипотетически могло иметь место.
Проблема в том, что эту твердую волю должен был проявить именно государь Николай II, а он по типу своей личности на такое был совершенно неспособен. Всем своим обликом: характером, типом поведения Николай II просто провоцировал первых лиц государства предать его. Чтобы предотвратить предательство, ему нужно было изменить свою природу, сделаться другим человеком. Мне это как-то сложно представить. Исполнять роль диктатора он органически был неспособен.
Чисто теоретически, конечно, государь мог назначить диктатора, пойти примерно по тому пути, по которому пошел в 1905 году, выдвинув фигуру Столыпина. Между прочим, когда Столыпин стал сначала министром внутренних дел, а потом очень скоро председателем совета министров, он был совершенно неизвестным человеком, одним из губернаторов. Значит, можно в принципе принимать такие решения. То, что мы сейчас, вглядываясь в Россию 1917 года, не видим такой фигуры, ничего не значит. Наверняка такого человека можно было найти.
Собственно, такая военная диктатура была единственным гипотетически возможным путем. Безусловно, тут должно было быть сочетание достаточно жестких мер с очень внятным объяснением политики. Ведь Столыпин обезоружил всю антигосударственную общественность своими внятными объяснениями, что он делает и в чем состоит главная опасность. В этом ему надо отдать должное.
Вот и в 1917 году, кто бы ни оказался в роли назначенного диктатора, он должен был бы не просто отправить в отставку тех генералов, арестовать тех чиновников, но и разговаривать с обществом, внятно и четко объяснить людям: «Ребята, никакой катастрофы не происходит, мы выигрываем войну, нужно продержаться всего несколько месяцев. В стране есть масса проблем, и мы будем их решать, но нет голода — в отличие от Германии, кстати! — у нас достаточно внутренних ресурсов. А те ужасы, которые вам представляются — это продукт вашего же воображения, вы сами загнали себя в такое состояние».
Но не надо обольщаться: даже найдись такой человек, идеальный диктатор — все равно дело не пошло бы как по маслу. Накопились огромные социальные проблемы, накопилось огромное недоверие общества к власти, и в одночасье все это было бы не решить. Вообще, корень всех этих проблем — неудачная вестернизация России, то есть результат как минимум двухсот лет крайне противоречивого и во многом ущербного развития. Поэтому огромный вопрос: удалось бы преодолеть эту чудовищную инерцию? Вероятность не нулевая, но вовсе не стопроцентная.
Мечта о гибриде
Когда били колокола. Загорск. 1930 г. Фото М. М. Пришвина
— Сегодня часто звучит мысль, что лучше для сохранения мира в нашем российском обществе лучше не давать однозначных оценок революции 1917 года: такие оценки могут настроить одних против других. И, как следствие из этого, говорят, что и Русская Православная Церковь не должна высказывать четкую позицию насчет 1917 года, не должна примыкать ни к одной из сторон. Что Вы об этом думаете?
— Думаю, что эта позиция лукавая. Высказывают ее чаще всего политики и высказывают не потому, что стремятся к истине, а с целью добиться своих политических целей, воздействовать на общество в нужном им направлении. Да, это произносится вроде бы с благой целью: чтобы не вносить в общество раскол, чтобы примирить людей разных взглядов: мол, и нашим, и вашим, и никому не обидно. «Ребята, давайте жить дружно», как говорил персонаж известного мультфильма.
Но это не получится. Во-первых, разделений в обществе и без того множество, и надежда смягчить их путем забалтывания темы 1917 года весьма наивна. Во-вторых, такое забалтывание попросту опасно, потому что мешает нам разобраться, что же именно произошло с нашей страной, с нашим народом. А не поняв своего прошлого, мы лишаемся и будущего. Потому что без такого ясного, четкого понимания мы не сможем возродить свою идентичность, сформировать представление о том, каковы наши ценности, к чему нам следует стремиться, а чего избегать, какие средства допустимы, а какие нет. Других способов собрать, соединить наше пространство и людей, живущих на этом пространстве, не существует.
— Также сейчас часто говорят, что поскольку было нечто хорошее в дореволюционной России, было нечто хорошее в сталинском периоде, было нечто хорошее в брежневском — так давайте возьмем оттуда, оттуда и оттуда самое лучшее, соединим — и будет нам счастье. Что думаете насчет такого политического гибрида?
— Это центральный вопрос, потому что, по сути, это вопрос о том, существует ли истина. Призывы найти свою правду и там, и там — это мировоззренческая шизофрения. Потому что и ленинско-сталинский большевизм, и большевизм ельцинский, и Русский мир — это диаметрально противоположные взгляды на национальную судьбу. Их невозможно совместить.
— Так речь же не об Истине с большой буквы, а о чисто прагматическом желании поиметь пользу от разных социальных систем, выбрав из каждой позитив и выкинув негатив.
— Все так называемые «позитивные моменты» жестко встроены и детерминированы той или иной системой. Все это неотъемлемые части целого. Скажем, социальная защищенность брежневского периода была бы невозможна без предшествующей ей сталинской индустриализации со всеми ее репрессиями. Идея всеобщего служения, взятая из русской старины, когда государь служит русскому народу, а дворянство служит государю — она невозможна вне православной веры, вне православного мировосприятия. Сталинская индустриализация невозможна без предшествующего красного террора и без конфронтации со всем остальным миром во имя идеи мировой революции. Поэтому выбрать что-то одно «хорошее», отказываясь от другого «нехорошего»— безнадежная затея. Выбранные части не приживутся друг к другу и не смогут существовать без того, чем пренебрегли, делая выбор. Словом, это как в «Женитьбе» Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…»
Так что предлагаемый гибрид был бы полностью нежизнеспособен.
— Есть расхожая фраза: «История учит только тому, что ничему не учит». Но все-таки, как думаете, какой урок можно извлечь из случившегося в 1917 году нам, современным людям?
— Мне кажется, правильнее говорить не об уроках, в школьном смысле этого слова, как об усвоении некой информации, а о выводах, причем не только интеллектуальных, но и нравственных, и духовных. Прежде всего нужно понять, почему рухнула историческая Россия. У Бунина в «Окаянных днях» есть удивительной точности слова: «Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье…» Вот это первый вывод: что нельзя жить — и не ценить, не понимать своего Отечества. Как говорится, что имеем, не храним, потерявши плачем.
Второй вывод — это ясный ответ на классический русский вопрос: «кто виноват?». Так вот, в наших проблемах виноваты мы сами. Не какие-то внешние темные силы, которые «нас злобно гнетут», а сам народ, все его слои. И тогда, и сейчас. В 1917 году не было ни одного сословия, которое целиком встало бы на защиту Русского мира. Отдельные люди были, и немало, но вот сказать, что русское крестьянство, или купечество, или русское офицерство, или даже русское духовенство встало плечом к плечу — так сказать нельзя. Николай II абсолютно точно написал в своем дневнике: «кругом измена, трусость и обман».
А причина этой всеобщей измены — своему долгу, своему национальному призванию, своей земле — еще и в том, что политическая элита и простой народ совершенно не понимали друг друга. Образованный слой и русское крестьянство совершенно по-разному смотрели на жизнь. Здесь особая вина конечно элиты, как правящего слоя: ведь именно эти люди принимали судьбоносные решения, определяли стратегию развития страны. В 17-ом году именно они ввергли страну в катастрофу. Образно говоря, они разожгли костер на торфяном болоте, где и без того уже тлели глубинные слои. И полыхнуло.
И отсюда же следует третий вывод, уже сугубо практический и насущный. Для народа — не поддаваться соблазнам утопических идей, иначе говоря «не сотвори себе кумира». А для властной элиты — понимать народ, жить с народом одной жизнью и не доводить его до состояния, когда пожар Смуты становится неминуем.
Беседовал Виталий Каплан
Адрес публикации на сайте foma.ru
Подробнее о книге
Купить книгу: 1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!